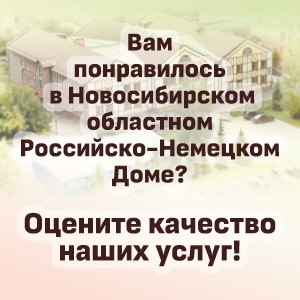В Российско-Немецком Доме в рамках проекта «Арт-подход» состоялась творческая встреча с актерами театра «Красный факел» Екатериной Жировой и Антоном Войналовичем. Главной темой для разговора стал спектакль «Тектоника чувств», идущий на сцене с 2016 года и неизменно вызывающий яркие эмоции у всех, кто его видел. За час до встречи со зрителями Екатерина и Антон дали интервью для газеты «Sibirische Zeitung plus». Разговор зашел о трудностях актёрской профессии, о том, как рождается образы, о жизни, гордыне, абсолютной любви, и, конечно, о «Тектонике чувств».

– Екатерина, в одном интервью вы сказали: «В случае с «Тектоникой» – он безусловно тяжёлый спектакль. И когда, допустим, в понедельник я понимаю, что в пятницу «Тектоника чувств», я буду эту неделю жить нормально, но где-то там, в подкорке, у меня будет сидеть, что в пятницу меня ждёт эмоционально тяжёлый спектакль». В чём сложность игры в этом спектакле? Как вы настраиваете себя на него?
Екатерина: – Есть спектакли, которые не требуют специальной подготовки, и это не показатель того, что такой спектакль плохой или хороший, сложный или несложный. Я вот не могу себе этого объяснить. Например, спектакль «Дети Солнца» – он прекрасный, тоже непростой, но мне не требуется перед ним какая-то внутренняя тяжёлая настройка. Я могу прийти прямо в день спектакля и «Дети Солнца», ага! Поехали!». И есть «Тектоника», про которую мне нужно знать чуть заранее, чтобы успеть переключить внутренний тумблер.

Потому что если я приду в театр и мне скажут внезапно, что вместо какого-то спектакля надо сыграть «Тектонику чувств», у моего «актерского аппарата» будет не просто стресс, а полнейший ступор. Этот спектакль требует от меня дополнительной подпитки сил, моральной подготовки, вот так вот, с кондачка, как говорится, я не могу его сыграть.
Чем он сложен? Ну он, конечно, требует какой-то приличной доли эмоциональной отдачи. У меня были и есть в репертуаре другие спектакли, которые тоже эмоционально наполнены. Тот же «Дом Бернарды Альба» заканчивается совсем плохо для моего персонажа. Но там почему-то нет такого предощущения, как перед «Тектоникой», и такого послевкусия. То есть ты там в конце умер, поклон прошёл, ты выдохнул и пошёл дальше в жизнь.
А с «Тектоникой» так не получается. Она начинает «пахнуть» для меня за несколько дней до спектакля, и потом спектакль закончился, ты идёшь домой, а «Тектоника» тебя ещё не отпускает. Я не могу ответить честно, почему, может быть степень откровенности в этом спектакле больше, чем в других.

– Как вы восстанавливаетесь после спектакля? Что является для вас точкой обнуления?
Екатерина: – Мой педагог Елена Сергеевна Жданова говорила: «Ты пришёл на спектакль, ты это отжил, закончил – и всё! Это должно остаться здесь, в театре. А ты идёшь домой! Это профессия!». И в большинстве случаев у меня получается не переступать эту тонкую грань, не продолжать жить жизнью персонажа. Но «Тектоника» почему-то держит дольше остальных. Хотя в какой-то мере спектакль является для меня психологической разгрузкой.
Мне кажется, мы – актеры, сколь несчастные люди, столько же и счастливые. У нас есть прекрасная возможность отрефлексировать все, что только возможно – в жизни, на сцене. Я думаю, что это такая в какой-то мере бесплатная психотерапия, потому что всё, что наболело, накопилось в жизни, за парочку таких вот спектаклей выплёскивается.

Я из тех счастливых женщин, которые никогда не будут дома закатывать истерик, бить посуду, потому что, если раз в месяц я играю Диану, у меня не остаётся на это ни сил, ни потребностей. Поэтому «Тектоника чувств» – как крайняя степень напряжения, так и точка обнуления, в том числе.
– Одна из отличительных особенностей спектакля «Тектоника чувств» – минимализм в декорациях, строгая расстановка предметов на сцене, строгий порядок перемещений. Для чего создан такой порядок «до миллиметра», как о нём отзывались зрители? Помогает ли он актерам?
Екатерина: – Лично мне первоначально это мешало. Потому что в таких сдержанных внешних условиях очень сложно «разогнать» себя на открытые какие-то моменты. Поэтому я в какой-то момент придумала приём с ниткой, которую наматывает Диана, чтобы не давать себе остывать. При внешней выключенности мне нужно, чтобы было какое-то действие, которое бы меня «не сажало в минус», а давало бы мне моторчик, чтобы было действие, запускающее мой эмоциональный «моторчик».
А сейчас я понимаю, что такая форма, наверное, спасение. Потому что если играть «Тектонику» правдиво, «бытово», как в жизни, без микрофонов, без четких траекторий, то получился бы телесериал, причём не лучший.
Это, наверное, как с древнегреческими трагедиями. Когда какая-то эмоциональная жизненная ситуация поднимается до уровня древнегреческой трагедии: когда ты настолько любишь или не можешь видеть правду, что выкалываешь себе глаза, когда ты настолько не можешь принять своих детей, что съедаешь их. Это высоко, это вселенский такой масштаб.

Но если то же самое играть приземлённо, это будет созависимость, что-то не очень здоровое. В нашем случае такая форма позволяет немного подняться и вывести эту историю из сериального сюжета на более высокий смысловой уровень и даёт пространство зрителю подмешать туда что-то свое.
– Антон, а вас устраивают такие четкие рамки, в которых существует ваш персонаж?
Антон: – Если честно, мне очень нравятся рамки. Я люблю, когда со всех сторон всё застроено, подстроено, подпёрто, тогда я, по крайней мере, себя очень ровно чувствую на ногах в спектакле, если всё продумано и выстроено, поэтому вся история геометрическая и минималистическая, со всеми этими штуками, с нашими декорациями минимальными, она мне нравится. Она держит как-то в тонусе весь спектакль.

– Антон, ваш герой – рассказчик, как он появился? Его ведь нет в пьесе Шмитта?
Антон: – Сам по себе он появился внезапно, из последней ремарки. У Эмманюэля Шмитта она какая-то личностная. Все ремарки, которые идут от автора в пьесе, они перечисляют, что происходит на сцене, кто куда идёт, кто что делает, а последняя ремарка – она мысленная. В финальной сцене на кладбище Ришар говорит: «Я тебя люблю». Диана отвечает. Вдруг появляется странная ремарка автора, в которой он описывает ощущения героя, что он отмечает.

И после этого у нас появилась идея вывести автора на сцену. А дальше мы его просто сочиняли. У нас были разные варианты, мы подмешивали что-то в историю, и в итоге все выросло в сцену 12-ю с ненавистью, когда идёт признание.
Екатерина: –
Я не хотела играть эту сцену, мне казалось, что невозможно искренне сказать тот
текст, который произносит моя героиня. Надо ещё понимать, что это переводной текст,
как мы не пытались его адаптировать.
Возможно у Шмитта в оригинале эти слова звучали иначе, но на русском они были
настолько плохи: «Я ненавижу тебя Ришар!», «Мне остаётся только умереть!». Я попросила
режиссера: «Пусть Антон скажет эти фразы за нас. Я не знаю, как это честно
сыграть».
Антон: – В итоге все, что хочется сделать на протяжении спектакля: и поиграть, и покричать, и позлиться, и поиздеваться, и ещё за двух разных людей поиграть – всё это делает мой герой. Полный простор, свобода действий. Твори как хочешь! Главное, издевайся над этими двумя людьми, которые никак не могут договориться друг с другом.
Постепенно начали выстраиваться какие-то отношения между Дианой и рассказчиком, между рассказчиком и зрителями. Мы все стали взаимодействовать на сцене.

– Вы играете «Тектонику чувств» уже пять лет. Как за это время изменились ваши персонажи и вы сами?
Екатерина:
– «Тектоника»
пять лет назад и сейчас – это небо и земля.
Я помню, как мы читали пьесу. Это не самая популярная пьеса Шмитта, я не была с
ней знакома. И когда прочитала, подумала: «Господи, это Шмитт? Что происходит?
Как вообще играть эту женщину? Из каких побуждений можно начать так действовать?».
К тому же, мы себя ощущали очень юными, нам было по 25, а приходилось играть женщину, у которой второй брак, она депутат парламента…

Антон: – И это последняя любовь в её жизни и другой больше не будет.
Екатерина: – Да! В меня мало что попадало тогда, мало что было мне созвучно, мало что было понятно в логике этой женщины. Мне казалось, что она очень далёкая от меня, очень взрослая. И я себя чувствовала в этом костюме депутата парламента так, как будто я у старшей сестры взяла на дискотеку платье и большие каблуки, мне всё это было немножечко велико.
Потом мне с годами становилось страшно, потому что я начала аккуратно, поэтапно понимать эту женщину, и в какой-то момент я подумала: «Ну, конечно, конечно, она кинулась мстить, а кто б не кинулся?». И вот сейчас, спустя пять лет, моё отношение к героине совсем другое.
На самом деле «Тектоника» – очень благоприятный материал, потому что в каждый момент жизни ты отживаешь какую-то проблему, какую-то мысль, которая крутится у тебя в голове. И от этого «Тектоника» поворачивается к тебе разными гранями: одна из них – это история мужчины и женщины. В какой-то момент для меня очень сильно включилась история с мамой, которая тебе говорит, что от тебя нет толка: ни внуков, ничего, ты ничего не успела, ничего не сделала… Это стало для меня основной главной болезненной нотой на какой-то период. Ты в жизни меняешься, и «Тектоника» начинает поворачиваться к тебе теми же гранями, которые в тебе отзываются сейчас.

Антон: – Я тоже изначально не понимал, как относиться к своему персонажу. Это была самая большая беда. Потому что мы поставили перед рассказчиком совершенно невыполнимую задачу – быть всезнающим, и при этом живо реагировать. Это, по-моему, взаимоисключающие друг друга вещи.
В начале спектакля я выношу реквизит четко на каждую сцену, то есть я изначально знаю, что будет происходить, чем это закончится, к чему это придёт. «А если я знаю, что произойдёт, как я могу удивляться? – это вопрос, который я задавал постоянно режиссёру. – Как я могу сопереживать этим ребятам, если изначально знаю, к чему всё придет? Это абсолютно холодная уже история!».
Потом очень долго я приходил к этому живому ощущению и любви к персонажам, и какого-то садистского любопытства творца. Ведь это он их создал. Пробовал по-разному играть: придумал я их из ничего, или это моя история. Я пытался проживать эту историю от лица Дианы, от лица Ришара, склоняясь больше то к одному, то к другому.
И в результате сформировалась сравнительно нейтральная позиция автора, конкретного экспериментатора, который смешал в колбочках разные вещества и знает, какой должна быть реакция, но наблюдает, как меняется цвет раствора…

– В «Тектонике чувств» создано немало крупных планов, кто-то из зрителей даже проводит параллель с «кинореальностью». Ставилась ли цель создать спектакль-кино? Для чего использовались такие приёмы?
Антон: – В принципе, почему эта пьеса малоизвестна… Шмитт написал киносценарий. Там очень большое количество площадок: квартира Дианы, мансарда, кафе, квартира Ришара, часовня, улица.
Пьесы для театра пишутся с ограниченным количеством мест действия, или в одной локации в идеале. Потому что в театре очень сложно сменить столько декораций. В принципе, отсюда и минимализм на сцене, потому что мы выкручивались. Всё что происходит в этой пьесе невозможно играть ярко, открыто, с криками, беготнёй и прочим. Тем более, это французская история, она очень сухая и построенная на микроэмоциях, микродвижениях лица. Я не помню, чтобы у нас была специальная задача выстраивать крупные планы, но это случилось от материала, от того, как это написал автор.

– Екатерина, ваша героиня проходит путь от любви как состояния, в котором комфортно и хорошо ей, до понимания, что любовь – желание видеть счастливым партнёра. Сегодня молодёжи насаждается мнение, что главное – это твой комфорт: ты достоин/достойна лучшего? Ты должен/должна любить себя, тогда тебя полюбят другие. Как же, по-вашему, прийти к желанию видеть партнёра счастливым, избежав при этом ошибок вашей героини?
– Это очень сложный вопрос, о нем много пишут, начиная от «Ветхого завета»… Название последней главы спектакля – «Абсолютная любовь», это то, что есть у каждого народа, в каждой религии, это и буддизм, и наше православие. Это вершина, которую, практически невозможно покорить. Это точка, к которой хорошо хотя бы стремиться. И не каждому хватит жизни, чтобы к этому прийти. А кто-то никогда до этого не дойдёт. Если кто-то за жизнь успевает к этому прийти, это круто. Я бы хотела. Но хорошо уже хотя бы стремиться. Это большой, длинный путь.
А то, о чем говорят сейчас молодёжи – «полюбите себя», это, скорее – «накормите себя сами».

У нас у всех есть какие-то потребности. И Диана, моя героиня, если бы любила себя, она могла бы себя накормить. Но так как она себя не любит, то ждет, когда кто-то сделает это за неё. И вот приходит мужчина, говорит: «Люблю», и начинает кормить её, удовлетворять её потребности. И ей хорошо. Но как только мужчина добился, успокоился, он не перестал её любить. Но в её понимании – он перестал её кормить. «Почему? Дай ещё!». И вот тут начинаются проверки: а если я уйду, а если я сделаю вид, а если я заведу кого-то…
Вот это и есть неумение любить, невозможность накормить самого себя. А пока ты сам себя не накормишь, ты не сможешь поделиться с другими. Абсолютная любовь для меня – это любить не за что-то, любить не чтобы любили тебя. Это когда ты любишь сам себя и в тебе это есть, и ты можешь поделиться, не требуя ничего взамен, это очень сложно. Это огромный-огромный путь, и дай Бог нам к этому прийти или хотя бы встать на эту лыжню!

– Вы играете спектакль на малой сцене. Видны ли вам эмоции зрителей, как они реагируют?
Антон: – Я всё вижу. Я смотрю весь спектакль на зрителей. У меня на самом деле такой карт-бланш в этом. Мне нравится, что я изначально, в принципе, разговариваю со зрителем. Именно лицом к лицу, взглядом со взглядами… Это здорово. Я наблюдаю весь спектакль, все что с ними происходит. Как они реагируют.
Я вижу этих бедных мужчин, которых в воскресенье утром жены привели в театр. А это дикое испытание и для нас, и для зрителя – играть всё это утром, и смотреть.

В течение первого акта они начинают засыпать, но зато на втором, как только у нас начинается чёрная история с истериками, криками, драмами и скандалами, свадьбами, ненавистью, разрывами, там они прямо – ага, что-то пошло…
Ну и, конечно, все всхлипывания в конце финальной сцены, это и слышно – потому что малая сцена – и видно.
Самая жуть начинается в 17-й главе. Перед ней, в конце 16-й, Ришар прощается с Дианой, говорит: «Я ухожу! Передай привет маме». Диана остаётся в истерике и последняя фраза, которую она произносит: «Что же мне теперь остается делать? Только умереть». У нас этой фразы нет, но зрителю и так всё понятно. А дальше начинается 17-я глава на кладбище. И у зрителя полное ощущение того, что Диана умерла. И это очень неожиданно для них. Когда я говорю: «17-я глава, траурная часовня, гроб с телом, курящийся ладан, бьют колокола». И в этот момент я вижу эмоции людей: «Чего? Как? Вот же уже всё закончилось?». И они заинтригованы…

– Диана, по словам матери, «сделала все, чтобы отвадить Ришара. Два года насмехалась над ним, унижая суждениями о смехотворности его чувств». Что ею движет? Страх?
Екатерина: – Да, она просто проверяет, насколько он её любит. Это всё от неуверенности. Но, с другой стороны, вспомните главу с мамой. Как можно быть уверенной с такой мамой, когда вообще ждали не тебя, а мальчика? И ты изначально уже не соответствуешь ожиданиям, тому идеалу, которого от тебя ждали. Конечно, она всю жизнь пытается заслужить любовь, пытается быть молодцом. Поэтому и проверка этого мужчины: потому что я знаю, что ты меня не любишь.

– О чем для вас этот спектакль? Одним словом.
Антон: – Там есть ключевая глава, самая важная, в которой Ришар говорит правильные слова про гордыню. Спектакль про гордыню, мне кажется. Про то, что это чувство как помогает в жизни справляться с чем-то, достигать целей, позволяет быть стойким, знать себе цену, так и разрушает очень многое на своём пути. Человек теряет дорогие, ценные для него вещи только из-за того, что становится в позицию «извините, я тоже не на помойке себя нашел». Я думаю, что про это.

Екатерина: – Вот для меня этой темы вообще нет. Антон сейчас сказал, и я вспомнила, что в пьесе этому целая глава посвящена, а для меня – это пьеса про абсолютную любовь, о том, как прийти к абсолютной любви. Не про гордыню, а про процесс, про то, что нужно пройти – и гордыню, и принятие, и непринятие. И прийти к абсолютной любви.
Наверное, поэтому я ни разу не играла гордыню. Это про страх, про страх остаться одной, быть ненужной, не быть молодцом. У неё нет гордыни, нет ощущения, что она классная и достойна чего-то большего. С психологической точки зрения ведь гордыня – это тоже от неуверенности.

Антон: – Но мне кажется, именно гордыня то, что мешает Ришару и Диане примириться каждый раз, когда они встречаются. Что сдерживает их просто сказать: «Я устал, я тебя люблю!» и «Я устала, я тебя люблю!» – только гордыня! Каждый включился в эту игру – «я тебе не нужен, и ты мне не нужна», и оба играют.
Екатерина: – Если копать глубже, то я боюсь, что так никчемна, что ты меня не любишь. И попросить, спросить об этой любви невозможно не от гордости, а от боли и страха.
Потому что, узнав, что это так, ты можешь либо лечь и умереть, ты это пережить не сможешь, поскольку это жизненно-кормящая тебя энергия. Либо принять, если ты взрослый самодостаточным человек, каким не является Диана. Либо, как героиня, начать действовать, мстить, что она и делает, чтобы куда-то деть эту энергию.

– Разница женского и мужского восприятия…
Екатерина: – Да, мы как раз недавно говорили с коллегами о различии женской и мужской логики. Мужчина, успокаиваясь, не перестаёт любить. Он просто перестает доказывать свою любовь. Он уже убил дракона, спас принцессу из башни, привёз её домой. Всё хорошо. А принцесса не может смотреть на спокойно лежащего на диване рыцаря и начинает придумывать себе драконов, чтобы ещё раз увидеть этот подвиг, чтобы убедиться, что рыцарь всё ещё её любит.
И вот в этом разница мужской и женской логики – и это бесконечная история, она была, есть и будет. И, видимо, прохождение этого процесса и есть суть жизни, и поэтому театр как искусство тоже был, есть и будет.
– Антон, если бы вы как автор могли иначе закончить эту историю. Вы бы подтолкнули героев навстречу друг другу?
Антон: – Мне кажется, вариант Шмитта идеален. Потому что для меня вот та любовь и та жизнь, к которой приходит Диана, она сопоставима с тем, что героиня сдирает с себя всю кожу. Это очень жестоко и правильно.

Екатерина: – Да, жестоко и правильно. Приход к озарению всегда лежит через полное разрушение, через жертву. При всём при том, что в спектакле есть и опустошение, и какая-то усталость, и боль. Я в конце всё равно прихожу к понимаю, что Диана будет жить, причем абсолютно другой жизнью. Не счастливой или несчастливой от того, что Ришара нет рядом. Просто другой, её глаза будут теперь видеть этот мир иначе. Это, конечно, буддизм такой.
Антон: – Да, она перешла на другой уровень. Пришло просветление. Мучительно, жертвенно, но просветление. Это идеальный финал, Шмитт очень прекрасный автор, он совершенно мудрый человек, и он все выстроил таким путем, что по-другому я даже и представить себе не могу.

– Мне кажется, этот спектакль наполнил вас мудростью.
Екатерина: – Да, это хорошая история для размышления.
– Спасибо! И напоследок, скажите, какие счастливые моменты связаны для вас с театром?

Екатерина: – Это, как правило, любимые спектакли, то, как они выпускаются.
– У нас так построена жизнь, что её нет отдельно от театра, она настолько с ним сопряжена. Это как спросить: какой самый приятный момент в жизни? Театр – это встроенная функция, ты не можешь её от себя отделить.
Антон: – Согласен. Ты переступаешь порог, и словно заходишь домой.
Тамара Разумная